Не кори меня жена
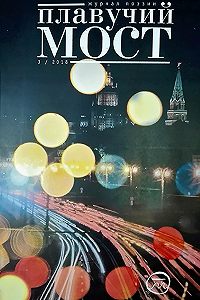
Об
авторе | Олеся Александровна Николаева родилась 6 июня 1955 года в Москве.
Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Поэт, прозаик, эссеист;
лауреат нескольких литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт»
(2006), профессор Литературного института им. Горького. Постоянный автор
«Знамени». Предыдущая публикация в «Знамени» — рассказы «Двойное дно» (№ 2,
2016). Живет в Переделкине.
Отрок
Что
за дела в двенадцать ночи
у отрока? А как же! За
ночным затишьем, что есть мочи,
готовит молнии гроза.
Она
оттачивает стрелы —
безмолвно тысячи теней
по чёрной глади оробелой
смолу и серу тащат ей.
Куют
незримо молоточки
железо в кузницах, и тьма
губами просит об отсрочке,
укутав бархатом дома.
Её
никто ещё не чует,
все дремлют, видят сны, храпят:
там дрыхнет кот, тут пёс ночует,
спят мать с отцом, деревья спят…
Лишь
этот отрок нечто слышит
и видит — что там? — зверь ли, змей
ткань эту плотную колышет,
как будто бы ползёт под ней.
Скорей
бы — чёрную повязку
сорвать, откинуть верхний пласт, —
а там подсветку и огласку
гроза подспудным силам даст.
И
можно этому смятенью
дать имя, разглядеть лицо
Томящего скользящей тенью…
Пожить
по своему хотенью!
Найти Кощеево яйцо!
Пейзаж
Как
после битвы всё вокруг: разорено
именье славное, прокисшее вино
не то что уксусом уже разит — мочою.
Угодья вытоптаны, сосны сожжены.
Кто жив, попрятался в свои дурные сны:
с горбатым месяцем, с его кривой свечою.
Лишь
графоман хозяйствует: в трофей
вцепился намертво. Теперь ему Орфей
что мальчик для битья иль бомж прохожий.
Он сам себе — и Зевс, и Параклет:
сам кости выроет, сам череп и скелет
обтянет жилами, задрапирует кожей.
Ах,
то-то я смотрю: то голова
торчит безносая, то из ушей — трава
ползёт пожухлая, то рот в червях кривится…
А вместо глаз — в слепых щелях лица
стекло бутылочное, попки огурца,
две пуговицы иль обрезки ситца.
…С
тех пор, как монстры поселились тут,
бельчата падают с ветвей и птицы мрут,
рябины чахнут, даль темна и мглиста.
И лишь шиповник мой из западни
топорщится колючками — сродни
дворецкому у князя-монархиста.
Да
ветер из порушенных домов
доносит отзвуки то музыки, то слов:
душа от них не то чтоб даже грелась
или кормилась — попадала вдруг
в приволье ласточки, и — на лету упруг —
её подхватывал и нёс в пространство мелос.
В
приволье ласточки, в блаженство соловья…
Душа начётчика лишь пробует, как я,
собрать потоптанное, сдать в музей под номер.
И атмосферу ту восстановить…
Но не догнать уже, не изловить
той ласточки,
и соловей тот помер.
Пленник
Пленный
солдат не глядит в упор,
косит — и ни ме, ни бе.
Но чует печёнкой, что этот спор
идёт о его судьбе.
Один охранник — белый, седой:
— Нехай валит домой!
— В расход его! — говорит молодой. —
Зароем, и с глаз долой!
За
складкой ночи, сырой стеной,
за хрупкой сетчаткой глаз,
за чуткою перепонкой ушной
решается всё сейчас!
За далью неба, там, где пасут
духи — наш овчий двор,
едва ль не с рожденья наш длится суд,
выносится приговор.
Один
— смотрящий — не ест, не спит:
— Ослабь, говорит, ремни!
А другой говорит, другой говорит:
— Потуже всё затяни!
Железом, жестью, ржавью, фольгой
жизнь схвачена в каждом шве…
Один говорит, говорит другой
у пленника в голове.
…Когда
же откроешь ты третий глаз,
услышишь ты третий глас:
ни вправо, ни влево, — тебе тотчас
откроется тайный лаз.
Но сам себе не дай слабину,
себе не черти черту,
спускаясь в самую глубину,
летящую в высоту.
Человек
Молодой
человек прекрасен, как сильный лось,
напролом сквозь кусты ломясь и ломая сучья.
Он проходит время своё насквозь,
а выходит он, как барсук, где нора барсучья.
Где
ж взыграние лимфы, кипящий сладкий дурман?
Где ж те воины в красных туниках — тельца кровяные?
Нет, он с присвистом дышит, как порванный барабан:
дребезжат мембраны, тусклы глаза слюдяные.
Ах,
мне жаль твоей молодой красоты, герой!
Матереет нежная плоть, раздувает жилы, как лава,
обрастает лишнею кожей, родинками, корой,
словно пробует в землю корнями врасти коряво.
Но
всего прекрасней младенец — новенький, золотой!
Он в земном ничего не смыслит — его ласкает
пенье духов небесных — там, в синеве густой:
им он машет руками да с губ пузыри пускает.
Ожог
Странный
человек! Всё о себе он
смотрит долгий сон,
по пространствам мировым рассеян,
в бездны погружён.
У
него взаправдашние кости,
кровь, глаза и сухожилья, но —
ходят к нему призрачные гости:
свет зажгут, а в комнате темно.
Говорят
бессвязно, безъязыко.
Соль пресна, а перец не горчит.
То ль глухие, то ль не слышат крика,
то ли он лишь мысленно кричит.
У
него взаправдашнее горло —
можно шарф на шее завязать,
но когда от этих снов припёрло,
хочется кому-то рассказать.
Что
живой он, настоящий, много
есть тому свидетельств: этот — впрок —
на запястье бурый след ожога:
бабушкой пролитый кипяток!
Травма
Его
ударило не сильно: чуть задело,
едва затронуло, но вот — слегка заело,
едва царапнуло его, но замутило,
из глаза капнуло и закрутило:
обезоружило, затрепетало
и обнаружило, что всё пропало!
И заморочило, и закололо,
и раскурочило, перемололо.
И что-то грохнуло и надломилось…
И сердце охнуло. Остановилось.
Народная песня
Не
ругай меня, жена, что я ёрш, что я ёж.
У кого внутри война, у того снаружи — нож.
На ночной наждак луна проливает чистый шёлк.
Не кори меня, жена, что я вол, что я волк.
Волчьей
ягодой полна жизнь колючая — колись.
Не стыди меня, жена, что я лось, что я рысь.
В меня речка влюблена, понимает меня ель.
Не ревнуй меня, жена, что я лис, что я — лель.
То
я вепрь, а то я выпь, — со своей землёю схож:
звёзды в небе — моя сыпь, зыбь на море — моя дрожь.
Как напьёшься допьяна, мир припрячешь в кулаке,
глядь — а в нём твоя страна: нос хмельной и в табаке.
Пляшет,
плачет старина, шарят тени по кривой:
не качай им в лад, жена, грозной птичьей головой.
Всё, что видится извне — возникает изнутри…
Тише!
О своей войне никому не говори!
«Театр»
День
проводили честь честью, и встретили
ночь, и вступили в шеол…
Только актёры пока не заметили:
зритель последний ушёл.
Тщатся,
стараются — жестами, мимикой
обворожить, обаять…
Пафосом, эпосом, икосом, лирикой
сердце могли б надорвать.
Только
ответом им злая, гремучая
в зале пустом — тишина.
Речка подземная, струйка горючая
да перетянутая струна.
Выйдешь
на воздух — сплошная обочина,
глушь, да задворки, да тьма.
Ветер свистит:
— Ваша пьеса окончена,
так не сходите с ума!
Ваша
Гертруда, как девка, торгуется…
В Гамлеты метит крепыш,
да под Офелию всё гримируется
сорокалетняя мышь.
Кончен
спектакль — и иссякли желания:
зрители спят до трубы.
Что ж не уймётся вся ваша компания,
всё — «бу-бу-бу», «бы-бы-бы»?
Тут
монолог вековечный заученный
все начинают твердить:
— С этой вот сцены бесценной, замученной
некуда нам уходить!
Будем
до смерти играть — то раскручивать
жизни пружину, то рвать:
правых оспаривать, мёртвых озвучивать,
вместо упавших — вставать.
Ямб
В.Г.
Когда
со стихами на сцену
ты выйдешь, Орфея собрат,
тотчас тебя смылят, как пену,
иронией охолодят.
Тот
хмыкает, этот плюётся…
Понятно, ведь публика ждёт
рифмованного анекдотца,
прикола и выверта, — вот!
А
ты им — трагический пафос,
который всерьёз и навзрыд
оторвам и лярвам, как Патмос,
катарсисом свыше грозит.
А
ты им — псалмы часослова:
хрип ворона, крик петуха.
Нет-нет, не потерпит такого
растерзанных душ требуха.
Зато
в этом ямбе трудиться,
как в тигеле, — верный расчёт:
всё собрано, всё пригодится,
и всё в переплавку пойдёт!
Источник
Олеся Николаева
Стихотворения
Олеся Николаева – поэт, прозаик, эссеист, профессор Литературного института им. Горького. Автор более пятидесяти книг стихов, прозы и эссеистики. Лауреат многих литературных премий, в том числе – национальной премии «Поэт», премии им. Бориса Пастернака, и Патриаршей литературной премии. Стихи, проза и эссеистика переводились на многие языки мира, отдельные книги были переведены на французский, испанский, английский, китайский, греческий, румынский и болгарский языки. Живёт в Переделкине.
Антонов
Мне жаль Антонова! Нет-нет,
он жив, а что пропал – едва ли:
его на станции «Рассвет»
и в «Толстопальцево» видали.
А что изганник – да! На дверь
ему указано: на днище,
ведь и казённое теперь
его отобрано жилище.
За что? На то был свой резон:
он крепко пил! Какие бредни?:
Доцент свалился на газон,
хватая куст, как шанс последний…
Какие лекции? При чём
желанье, чтобы – без огласок,
когда сам лектор вовлечён
в ристалища теней и масок?
В гуденье рифм, в борьбу идей…
Он видит в родине чужбину:
там хам грядет, а там халдей
затаптывает жемчуг в глину.
…А я ведь помню век такой,
когда меж снобов и долдонов
изящный, с легкою рукой,
по институту шёл Антонов.
И ворот свежий, и лица
простая лепка так опрятна,
и вкрапленная хрипотца
в негромкий голос – деликатна.
Стихи писал. Молва плела:
«мертворожденные», что кокон.
Литературные дела
все побоку, всё мимо окон.
Сколь многие поймут его!
Во тьме, стирающей различья,
так просто обрести родство:
что птичья кость, что жила бычья!
Идти туда, где гуще мгла,
где все свои за плотной тенью,
ждать отзвука, искать тепла,
и петь хвалу самозабвенью!
Так где искать его? А у
ворон не спросишь: «Где Антонов?»
Иди, кричи свои «ау»
среди бомжатников и схронов.
Выходит, муравей в овсе
заметней человека в силе?
Притом – его любили все!
Мы все Антонова любили!
Прощённое воскресенье
В России Хронос побеждён,
к пространству пригвождён:
с погодой слит, с рельефом свит
и звёздами блазнит.
Здесь Ленин Сталина дерёт
за рыжие усы.
Здесь Сталин Ленина ведёт.
схвативши под уздцы.
И птица Сирин здесь поёт
невиданной красы.
И в недрах – Древний Змей живёт,
и в кузнях – кузнецы.
Башмачкин мокрый снег жует,
Тряпичкин жжёт чубук.
И Клячкин открывает рот,
да вырубили звук.
Все рядом: там – приказчик пьян.
Ямщик попал в буран.
Святая Ольга жжёт древлян,
бьёт заяц в барабан.
Бомбист таскает динамит,
язык ломает фрик,
чело Державина томит
напудренный парик.
И стелятся туман и дым,
и Врангель входит в Крым.
Прощается славянка с ним,
а я останусь с ним.
Эпох сливаются слои,
хоть в славе, хоть в крови,
где все чужие – как свои,
пускай и визави.
Глядит зелёная звезда,
Земля пред ней, что взвесь,
и говорит, что навсегда
мы вместе будем здесь!
Быль
Как позвал Илья-Пророк Угодника Николая
обойти нашу землю, пройти полями-лугами.
И пустились в путь, ничего здесь не узнавая,
невесёлыми ступали ногами.
Наконец встретили дурачка на поляне.
Решили порасспросить о мире, о человеках:
– А есть ещё наши люди? А где крестьяне?
А где пушные звери в лесах?
Где рыба в реках?
Где пахари и косари, что встают до свету?
Есть ли ещё мужики в этом народе?
Отвечает им дурачок:
– У нас теперь этого нету:
ни мужчин, ни женщин. Каждый одевается по погоде.
Все теперь ровня – жена ли, муж ли: у всех застежка на брюхе.
Мужики рожают, бабы платят, а дети
отрываются и балдеют, а старики и старухи
сидят в фейсбуке и в интернете.
– Ну а молитва? А песни свои поются? —
спрашивают странники.
Отвечает им бедолага:
– Да песни как раз найдутся,
хотя бы вот эта, где «м-м» и где «джага-джага».
И пошли Илья-Пророк со святым Угодником – Божьи птицы,
головами качают, услышанное никак не свяжут.
И вдруг засмеялись оба:
– Экие небылицы!
Кто у дураков-то спрашивает? Они и не то нам понарасскажут!
А дурачок собрал убогих, сирых и малых
и пересказывает им подробности этой сцены:
– Они думали, я не знаю… Но я узнал их!
Ждут нас счастливые перемены!
Вертеп
Провинциальная гостиница:
там все – торговец, мытарь, нелюдь.
Люд пришлый не спешит подвинуться,
чтоб странников впустила челядь.
У всех – сердца до верха заняты:
желудочки, мешки предсерьдья,
забиты уши, очи залиты,
и сжаты губы от усердья.
Битком набито всё и заперто.
«Нет мест!» – из-за дверей хозяин.
Осёл почти свалился замертво.
Иосиф выше сил измаян.
Мария скрылась светлоликая
под плотным тёмным покрывалом.
И на пустыню безъязыкое
селенье облик поменяло…
Моё же сердце – место дикое:
здесь сумрачно, здесь ветры злее,
здесь бродит зверь, ночами рыкая,
здесь привидения и змеи.
Но путники изнеможённые
тут опускаются на камни,
под эти своды обнажённые.
Как принимать мне их? Куда мне?
…О, сердце! Ты – вертеп таинственный,
срываешься на верхних нотах,
когда рождается Единственный
Младенец там, в твоих темнотах!
И что до ангельского пения,
звезды, волхвов и волхованья,
когда Младенца дуновение
коснулось твоего дыханья…
Лютер
Девяносто пять тезисов доктора Лютера – смута
заразительна.
Высокомерно вступает в права
незаконный наследник и бастард. И пялится люто,
шевеля волосами, отрубленная голова.
Вся Европа в бреду. Рвутся швы. Реки бьются в падучей.
В Ватикане изжога, и тянет, ему вопреки,
Ветхий Деньми Свои узловатые пальцы из тучи,
но Адам отвечает капризным изгибом руки.
И повсюду уже расползлась эта весть, эта повесть, —
говоришь «человек», а находишь надрыв и разлом:
это плоти диктат, это разума спесь, это помесь
павиана с павлином, а то и косули с козлом…
Доктор Лютер, когда б хоть во сне вы предвидеть могли бы,
ядовитые гвозди вбивая в церковный каркас,
как ползут и ползут мрачнолицые парни Магриба:
шесть веков они ждали,
и время их вышло на вас!
Встретит весь Виттенберг их с улыбкою, пивом и миром,
и в немом изумленье воззрятся на этот комплот
европейские ангелы, плотно увитые жиром:
этот – с видом рантье и с лицом бакалейщика – тот.
…Удивительно ль, что мы тут ищем подкопы, подвохи,
дыры в жизненной ткани, сучок в европейском глазу,
гвоздь в двери виттенбергской, рычаг, за который эпохи
мрут, как мухи, и тонут в тазу.
Верба
Помню, как остывали
звёзды в реке ли, в чане,
выли, на помощь звали
бабы-односельчане.
Как кричала неясыть
в полночь, когда счастливца
здесь забивали насмерть
два бугая-ревнивца.
Кости ломали, жилы
рвали, аж кровь кипела —
за молодые силы,
за красивое тело.
За лицо – без изъяна,
статный стан без ущерба,
где одна средь бурьяна
лишь молодая верба.
За глаза – без порока,
кожу – белее мела.
И засохла до срока
верба да почернела.
Словно смерть человечью
взяв себе, в день воскресный
молодца – вербной речью,
силой своей древесной,
ветками оплела,
листьями обложила,
на ноги подняла,
соками опоила…
Бабы о вербе той,
пьяны, хмельны ль, тверёзы,
песни слагают, —
пой
с ними,
глотая слёзы…
Народная песня
Не ругай меня, жена,
что я ёрш, что я ёж.
У кого внутри война,
у того снаружи – нож.
На ночной наждак луна
проливает чистый шёлк.
Не кори меня, жена,
что я вол, что я волк.
Волчьей ягодой полна
жизнь колючая – колись.
Не стыди меня, жена,
что я лось, что я рысь.
В меня речка влюблена,
понимает меня ель.
Не ревнуй меня, жена,
что я лис, что я – лель.
То я вепрь, а то я выпь, —
со своей землёю схож:
звёзды в небе – моя сыпь,
зыбь на море – моя дрожь.
Как напьёшься допьяна,
мир припрячешь в кулаке,
глядь – а в нём твоя страна:
нос хмельной и в табаке.
Пляшет, плачет старина,
шарят тени по кривой:
не качай им в лад, жена,
грозной птичьей головой.
Всё, что видится извне —
возникает изнутри…
Тише! О своей войне
никому не говори!
Чуждый огонь
Чем холоднее и пустыннее на сердце – тем верней навстречу
и желтоглазое уныние, и косоротое злоречье…
Идут, хромцы, сосредоточенно, угрюмы и неутомимы,
то рощами, то вдоль обочины, на вид – простые пилигримы.
Но в ком заметят червоточины, тех окружают, обнуляют,
и вид на жительство просроченный слюной на темя налепляют.
…Я знала тех, кто долго мыкался: то замирал кариатидой,
то лес валил, то в стены тыкался и кто не справился с обидой.
И стал кормить в себе томление, пока сквозь мысленную стужу
отчаянья и озлобления огонь не вырвался наружу.
Он тлел в подполье, злые жалобы шипели, лопаясь под спудом,
чтоб вспыхнуть вдруг: пора настала бы Надава вспомнить с Авиудом.
Как те страницы ни пролистывай, как голову ни прячь в тумане,
всё видишь их огонь неистовый, самих же попаливший в стане.
…О, как бы жить, себя не мучая: ни власти не желать, ни славы,
изъять из сердца сны горючие и жароплавкие составы.
Из облака сине-зеленого торчат чадящие затылки.
Боюсь, по запаху палёного Творец найдет нас у коптилки.
Грустная история
Школьницей, девицей, птицей
нездешнею,
как ты сияла улыбкой безгрешною! —
Так и осталась в том давнем году —
белою лилией в чёрном саду.
Что же потом с тобой сделалось? —
ржавая
музыка эта, ухмылка лукавая…
Так и порхала у всех на виду
чёрною бабочкой в белом саду.
Ты ли сама или время проклятое?
Тучная, траченная и помятая
встала и загородила звезду
ягодой волчьею в чёрном саду…
Так увядает и никнет несчастная
грешная плоть, небесам не при
частная,
чая очнуться и грезя в бреду
белою лилией в белом саду.
Так – неопознанную, безымянную —
похоронили с рогожею рваною,
перекрестили тайком на ходу…
Что-то да вырастет снова в саду.
Осенний псалом
Осенью говорят деревья, от куста передают кусту:
оставь себе лишь себя, оставь себе простоту,
готовься к бедности, к сирости, к холодам,
к Рождественскому посту…
Осыпаются листья, отрываются пуговицы, ветер к ночи все злее.
Все у тебя отберут – роскошь, молодость, красоту,
а кураж и сама отдай, не жалея.
Нитки висят, лохмотья, прорехи в кроне, дыра
прохудилась в роще, густоволосой еще вчера,
и не надейся: готовься, уже пора —
к скудости, к безголосым птицам, на руках цыпки.
Только б концы с концами свести! Иней уже с утра.
Да, но и бедность тоже умеет играть на скрипке!
Так говорят деревья, так говорят кусты:
есть и у нас псалмы, есть и у нас персты.
И стоят посреди зимы, как в пустынном зале.
Музыка чуть слышна, и рифмы совсем просты:
вот, мы протягиваем вам руки – смотрите, они пусты,
всё мы отдали вам и ничего не взяли!
Источник
